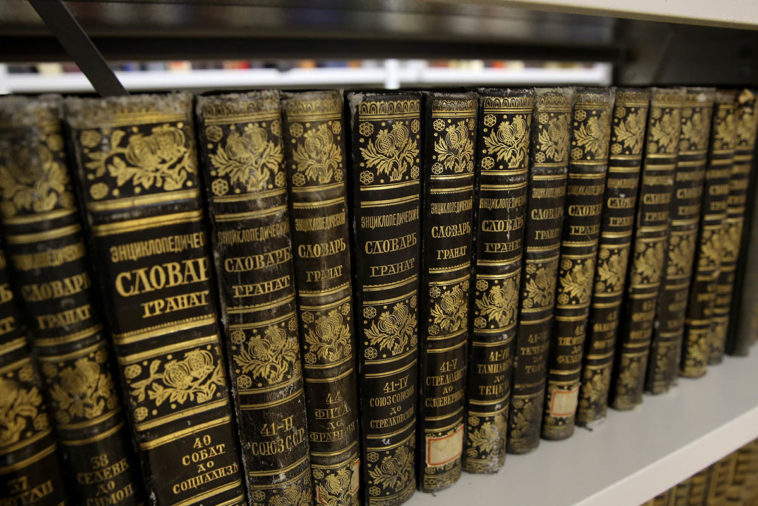Давно известно, что в научной среде или в любой вменяемой дискуссионной и любой прочей коммуникативной ситуации принято сначала договариваться о терминах, об их взаимно понятных значениях. Необходимо согласиться друг с другом о том, что такие-то слова означают то-то и то-то. Непременно надо договориться о взаимоприемлемом понимании тех или иных понятий. Причем само слово «понятия» желательно понимать в его классическом значении, а не в том, в каком его принято теперь понимать в определенной социально-культурной среде.

Это так же необходимо, как необходима настройка инструментов в оркестре перед началом концерта. Иначе оркестр зазвучит так, что лучше бы он не звучал никак.
Звуки этой настройки, доносящиеся со сцены или из оркестровой ямы, всегда волновали меня, заставляя тоже настраиваться. Эти хаотичные звучания всегда кажутся мне самостоятельным музыкальным событием, наделенным столь же не ясным, сколь и очевидным для меня музыкальным содержанием.
Время от времени и в социальной жизни возникает насущная необходимость, подавив взаимное раздражение, на минутку приподняв мутную пелену с глаз и подтерев пену с губ, вернуться к взаимоприемлемым значениям основных терминов и категорий, попытаться настроить свои инструменты в этом оркестре. А также попытаться понять, что без этой настройки и никакого оркестра не будет. То есть, говоря шире, не будет вовсе никакого общества.
Разумеется, это касается лишь тех, кто хотя бы чуть-чуть заинтересован в осмысленном диалоге, а не в обмене истошными проклятиями, зловещими угрозами и вдохновенными доносами «куда следует».
Необходимо, например, заново договориться о смысле различных словосочетаний, в состав которых входят такое звонкое слово, как «Россия». Таких, как, например, «интересы России», «друзья России», «враги России».

Если разобраться с тем, насколько понятие «Россия» совпадает с ее государственными институтами и вообще с ее совокупным начальством разных рангов, то, может быть, станет возможным понять, другом или врагом является тот, для кого эта тождественность, мягко говоря, не очевидна и насколько правильно полагать, будто «интересы» начальства и «интересы России» — это одно и то же.
Надо определиться, надо договориться во что бы то ни стало. Надо все-таки как-то совместно решить, являются ли врагами России те, для кого Россия является частью современного мира, пусть даже и особенной частью (а кто не особенный?), и являются ли ее «друзьями» те, для кого Россия — это какая-то висящая в воздухе — наподобие Свифтовской Лапуты — огромная часть мировой суши, не признающая ни закона всемирного тяготения, ни прочих, универсальных и общих для всех физических, общественных и нравственных законов.
Неплохо было бы понять, почему магическое и труднопроизносимое, как факирская «абракадабра», слово «суверенитет» все в большей и большей степени понимается не как право на уважение к своим и чужим правам, а как право на своевольное неуважение к правам собственных, да и не только собственных граждан, как право на несоблюдение общественных приличий и цивилизованного поведения.
Хорошо бы разобраться, кстати, не только с ключевыми именами существительными, но и, например, с личными местоимениями. Они ведь для чего-то все-таки существуют же!
Хорошо бы в каждом конкретном случае понимать, кто такие «мы», кто такие «вы» и кто такие «они». Хорошо бы всякий раз ясно представлять себе, где «я», где «ты», где кто.
Надо попытаться разобраться, что такое «за нас» и что такое «против нас». И почему хочется иногда спросить: «”Мы” это только вы, а не, например, и я тоже?»
Рассказывали, как в начале 1980-х годов некий высокий партийный хрен с горы вызвал к себе старого заслуженного дирижера и сказал ему: «Как это так получается, что каждые зарубежные гастроли вашего оркестра заканчиваются тем, что два-три музыканта не возвращаются домой, а остаются за границей? Чего это от вас люди-то бегут?» «Они не от меня бегут, — ответил дирижер. — Они от вас бегут».

С притяжательными местоимениями тоже не мешало бы слегка разобраться.
Кто такие, например, «свои»? А кто «не свои»?
Я вот тоже употребляю слово «свои», «свой». «Он свой», — говорю я иногда о человеке, свойства и качества которого пытаюсь обозначить. Я точно знаю, кто такой «свой». Свой — это человек схожего с моими образа мыслей и набора базовых ценностей и принципов, это человек, которого смешат или возмущают примерно те же явления, слова или поступки, что и меня.
Но в туземной социально-политической риторике слово «свои», «наши» чаще всего обозначает либо политико-географическое (соотечественники), либо — пуще того — родоплеменное единство, каковые «единства» в контексте современного мира давно уже никакими единствами не являются.
Да и с предлогами тоже не все, мягко говоря, благополучно.
Вот, например, с некоторых пор стала необычайно распространенной конструкция «ложиться ПОД …» Под Америку, под Европу, под НАТО, под что угодно. Но непременно «ложиться».
Перефразируя старую, но время от времени отрясающую пыль с ушей и с плохо скрытой зловещей интонацией вновь и вновь звучащую формулу, можно патетически вопросить: «Под кем вы, мастера культуры?»
Неизбежные эротические коннотации такой словесной конструкции вполне очевидны и прозрачны. И даже если их и принять как исходную точку для дальнейших умственных построений, то не может не возникнуть законный вопрос, а вправе ли кто-нибудь оспаривать право другого на самостоятельный и добровольный выбор товарища или партнера, по застолью, по дружбе, по любви, по постели.
Не каждый ли сам может и должен решать — причем, по обоюдному согласию, а не путем принуждения или насилия, — ПОД кого, НА кого, РЯДОМ с кем ложиться, садиться или идти рука об руку.
Архаическое сознание предполагает борьбу за главное место. Современное сознание — за свое собственное. Кто-то сражается с кем-то за то, чтобы быть главным и первым.
Кто-то — за право быть самим собой. А также за право ложиться, садиться, ходить и летать ПОД, НАД, и С теми, с кем ему хочется, с кем ему интересно и весело и чьи основные взгляды на мораль, на историю и на современность он хотя бы частично разделяет.
Да, я знаю и сам, — и не надо мне об этом напоминать, — о том, что договариваться, в том числе о терминах и категориях, можно лишь с теми, кто сам этого хочет. Знаю я и о том, что диалогическое сознание дается отдельным людям и целым коллективам с большими усилиями и далеко не всем. Все знаю. Но договариваться все равно надо. Хотя бы с самим собой. И это все равно рано или поздно сделать придется. По крайней мере всем тем, кто еще не окончательно забыл библейскую историю о том, чем закончилось сооружение Вавилонской вертикали.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.