В середине декабря в «Новом издательстве» выходит книга, посвященная стихам Михаила Айзенберга.
Я долго думала, могу ли в своей книжной рубрике, где каждую неделю пишу о книгах, которые скоро выходят в свет или уже вышли, рассказать вот об этой маленькой книжке — ее обещают через пару недель получить из типографии. Почему сомневалась? Все очень просто: автор этой книги — мой сын Филипп Дзядко, главный редактор проекта Arzamas.
Он кандидат филологических наук, и наш дом всегда был завален книгами о книгах, литературоведческими исследованиями.
К стихам Филиппа пристрастил мой муж Виктор Дзядко, он обычно читал детям, когда они были маленькими — сказки Киплинга, чуть постарше — Диккенса, а еще чуть старше — стихи Пастернака и Заболоцкого. Стихи они не просто читали, они пытались их разбирать, и как пишет Филипп в своем предисловии, «старались понять, как они (стихи) устроены и что они делают с нами. Это совместное чтение часто превращалось в разговор обо всем на свете».
И вот, размышляя о том, почему я все-таки хочу опубликовать отрывок из книги «Глазами ящерицы», я убеждала себя, что это — не столько книга моего сына Филиппа Дзядко, и можно не бояться «конфликта интересов», потому что это и книга замечательного поэта Михаила Айзенберга.
Филипп Дзядко разбирает двадцать одно стихотворение Айзенберга, написанное в 2014 году. Эти стихи, никогда не публиковавшиеся в этом составе и в таком порядке, публикуются вместе и каждое стихотворение Дзядко снабжает своими заметками, которые могут быть неожиданным размышлением, случайной ассоциацией, важным воспоминанием – реакцией на встречу с только что прочитанным стихотворением. Так получился своеобразный роман со своим сюжетом, со своими героями, конфликтом и внезапными решениями.
И выходит, что ты не только читаешь стихи, но и участвуешь в разговоре о каждом стихотворении, но не литературоведческом, а очень частном, личном, каком-то очень «человеческом».
Вот, например, как он начинает такой разговор о первом стихотворении, давшем название книге — «Глазами ящерицы»:
«Снимок, не попавший в проявитель,
сделанный рассеянным прохожим;
мы не знаем, что там, мы не видим,
дальнюю границу не тревожим.
Кто же мы — летающие вздохи
или вздохов моментальный снимок?
Птицы, подбирающие крохи
между сквозняков необъяснимых?
Ящерица, та, что на припеке,
поднимает мизерное веко.
Видит восходящие потоки,
принимает их за человека».

«Стихотворение пишет еще одно стихотворение внутри себя, рассказывает сразу две истории, — объясняет Филипп Дзядко. — Первая посвящена частному случаю — это история о не получившейся фотографии, о пленке, которая почему-то не попала в ванночку с химическим раствором, преобразовывающим скрытое изображение в видимое. Вторая история — об ограниченности нашего знания и понимания. В переключении внимания с одной истории на другую, в их переплетении рождается драматургический эффект. С вопросом «Кто же мы?» вторая история становится главной, но непроявленная пленка возвращается в третьей строфе — уже в глазу ящерицы. Тогда оба сюжета сходятся в один».
Дзядко читает стихи Айзенберга не только как роман с выдуманным им сюжетом и главным героем — поэтом, но и как «политические тексты».
«Эти стихи в значительной степени сделаны из своего времени, собраны из воздуха, замерзшего на стекле. Наверное, это политические стихи, но не в буквальном смысле: это стихи сегодняшнего дня и о сегодняшнем дне, и не только потому, что иногда в них угадываются реалии последних лет. «Видимо, и сейчас, как когда-то, в шестидесятые годы прошлого века, люди ощущают болезненно-острую нехватку реального. А стихи (настоящие стихи) это и есть „производство реальности“. Они приходят на помощь — очищают воздух от химер и фантомов». Об отношениях времени и стихов Айзенберг вообще говорит часто: «Реальный материал искусства — именно время»; «у каждого поколения есть своя задача — поиск нового языка как темы времени — как творческой идеи, идущей через художественное пространство в социальное». Химеры времени — я встречал их в этой книге, им сопротивлялись ее герои», — пишет Дзядко.
«Поиск нового языка, «противостояние пропасти, преодоление немоты и тьмы» — это то, что в какой-то степени важнее сиюминутных твитов, новостей о вновь обретенной дочери Путина, бешеном принтере, угрожающем загнать нас всех в советское прошлое. Это те самые «химеры времени», с которые борется своими стихами Михаил Айзенберг и от которых вслед за ним прячется Филипп Дзядко. Прятаться — это не значит не сопротивляться и не противостоять тому мороку и мраку, который нас накрывает. Оказывается, взглянуть на мир глазами ящерицы — очень мудрый опыт и совет. Взглянуть на мир глазами ящерицы — значит, увидеть мир впервые, увидеть его иначе.
А если увидеть его иначе, значит, он будет чуть лучше, светлее, чем есть на самом деле. И в этом чудо поэзии, поэзии Михаила Айзенберга, в основе которой лежит свет, сострадание и надежда. По крайней мере, так прочел и увидел эти стихи Филипп Дзядко. Так он предлагает их прочесть и увидеть нам.
С разрешения «Нового издательства» публикуем отрывок из книги «Глазами ящерицы».
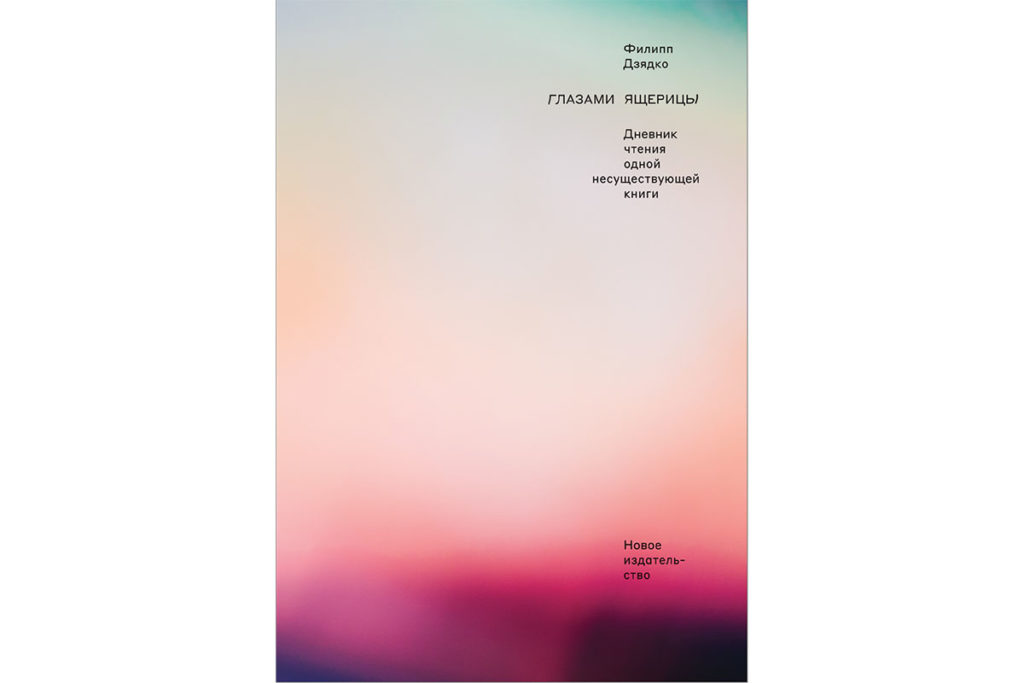
Дом, где словно стена пробита.
Дверь запирается так, для вида.
Все качается, не пролей.
Все ж таки надо держать правей,
если в мозгах пляска святого Витта.
Только шурум-бурум да шахсей-вахсей
и ни других гостей,
ни других новостей.
Мозг посылает одни депеши,
как заведенный, одни и те же
в адрес всей этой нечисти. Власти всей.
Это из воздуха на дворе,
полном политики словно гари,
передается: тире — тире,
а произносится: твари — твари.
Человек, возвращающийся домой летом 2014 года, года начала войны с Украиной, не находит прежнего дома. Перед бессмысленной дверью он что-то бормочет, ища очки или ключи, в его мозгу — беспорядочные, отрывистые мысли, какой-то безумный танец.
Это стихотворение читаешь как продолжение предыдущего, оно переносит описанную там битву в сегодняшний день. Они дополняют друг друга и хором говорят о воздухе 2010-х годов. «Дом, где словно стена пробита…» — уже прямое высказывание, оно предельно конкретно. Слово «политика» произнесено, и оно становится синонимом яда. Стихотворение дает определение и «власти всей», и общественному климату: «гарь», заполняющая легкие, вытесняющая кислород.
Вспоминая предыдущие тексты книги, понимаю, что они начинают складываться в сюжет: было ощущение пустоты и предчувствие катастрофы, за ними пришел червивый голос, угрожающий родному месту, и вот теперь — стена пробита, двери — уже не защита, весь воздух полон политики, она проникла в дом. Что такое «политика» здесь? Не личное, а коллективное, не хрупкое, а грубое, не важное, а пустое. Ее вред не только в том, что она мешает дышать, как гарь; дело хуже: она занимает место воздуха, замещает его.

Депеша — слово из армейско-дипломатического арсенала — указывает на одностороннее общение. В «посылает» уже свернуто содержание этих депеш (к черту, на х**): устойчивое словосочетание экономно сокращено до слова, но ты его сам разматываешь при чтении. Депеша — это сообщение в один конец, уведомление, а не начало разговора. Разговор исчезает — это важная тема. Вместо него теперь «шурум-бурум да шахсей-вахсей» — гул ленты фейсбука и псевдоновостей, пустые речи и бессмыслица, и даже страшнее: уже знакомое «нестройное ура», которое идет на нас стеной.
Шурум-бурум, распад диалога и невозможность общего дела встречаются и в другом стихотворении М. А. — 1982 года:
Это счет вавилонский наш:
чет на вычет и баш на баш —
башню строили. И недаром
к оползанию ледника
всех давно развели по парам
как попало, наверняка.
Только шум да шурум-бурум
бытовая отспорит служба.
Лучше выберу подобру,
что ни в чем выбирать не нужно…
Шум, шурум-бурум противостоят осмысленному разговору, а именно в нем — залог существования. В речи при вручении Премии Андрея Белого в декабре 2003 года М. А. говорил: «Может быть, стихам нужен разговор еще и потому, что сами стихи — разговор, только идущий на особом языке — языке настоящего времени. Настоящее — это время событий. От времени сегодняшнего оно отличается примерно так же, как событие отличается от происшествия. Событие — это происшествие, обнаружившее собственный смысл».
О чем «Дом, где словно стена пробита…»? Не только об отравленном политикой воздухе, но и о столкновении двух типов речи — речи сегодняшнего дня и речи настоящего времени. Шурум-бурум да шахсей-вахсей — это сегодняшний день, происшествия, не обнаружившие собственного смысла. Этот сегодняшний день перерабатывается в депешу — и получается проклятие.
В интервью, данном незадолго до создания стихотворения, М. А. рассуждал о значении разговора в семидесятые: «В этом разговорном кружении, сталкивании находились слова для выражения того, что нас окружало. Иногда эти слова были случайными, иногда — точными. Сейчас я понимаю, что именно это и было главной работой, которая совершалась в то время. <…> Находить имена и учиться существовать в этом мире. Собственно, речь идет об определенной экзистенциальной технике: что делать с той стеной, которая постоянно на тебя валится и грозит тебя полностью завалить. Как бы научиться так ее подпирать, чтобы не биться об нее головой, — не делать это своим единственным занятием, потому что жалко тратить на такое свою голову, свою жизнь». В 2010-х эти навыки снова оказались необходимы. В «Доме, где словно стена пробита…» уже нечего подпирать, нужно учиться существовать в мире, где все качается. Стихотворение помнит о своих соседях — стихах о чутком звере, хранителе места, ратниках и певцах, камнях в кармане, — о тех, кто видит и кто сопротивляется. Но здесь единственным названным средством обороны оказываются депеши с проклятиями.
В этом сильнейшем отклике на политическую жизнь в стране инвективы против власти складывает сам воздух. Стихотворение перелагает его сообщения, расшифровывает тире-тире в текст, понятный человеку. И этот текст полон ярости.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

