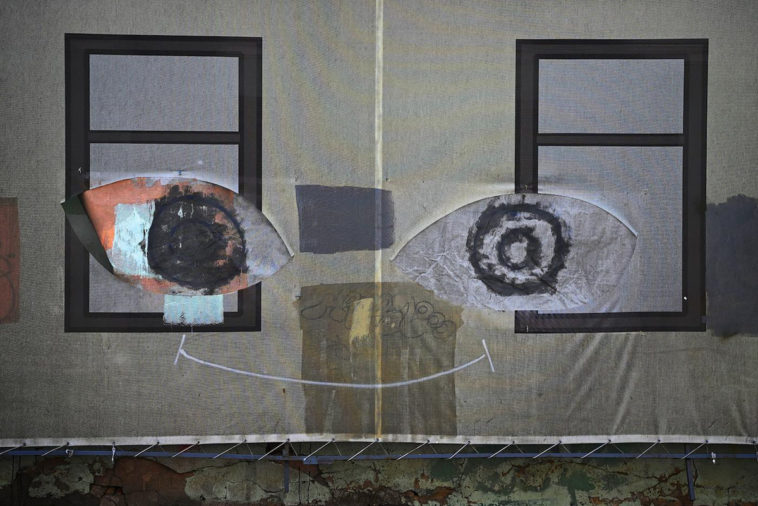Я уже и говорил, и писал неоднократно о том, что не очень я люблю этот разухабистый праздник. Может быть, дело в том, что я всегда был очень уж доверчив, очень уж был «обманываться рад». А сам фатально не умел чего-нибудь этакое выдумать, как ни старался.

А ведь были неутомимые выдумщики. И, главное, вполне успешные. Однажды, например, мой школьный приятель, а в то время консерваторский студент, собрал немалое число людей на довольно отдаленной подмосковной станции, где в местном клубе якобы должен был состояться полуподпольный просмотр кинофильма «Восемь с половиной». Те, кто хоть чуть-чуть представляют себе жизнь и нравы интеллигентного горожанина конца 60-х годов, поймут, о чем речь.
Надо ли уточнять, что сам он туда не приехал — что он, дурак, что ли.
Тщетно прождав его минут сорок и основательно продрогнув на весеннем ветру, мы принялись недоумевать: Мишка же ответственный и обязательный человек, не случилось ли чего. Но когда кто-то из наиболее проницательных осторожно поинтересовался, какое сегодня число, все сразу все поняли.
Сначала все, перебивая друг друга, с вполне объяснимой душевной теплотой высказались в адрес первоапрельского шутника. Потом, слегка поостыв и пораскинув мерзлыми мозгами, отправились в пристанционный магазинчик, где закупились некоторым количеством соответствовавших моменту напитков и в результате совсем неплохо провели время в электричке, умчавшей нас обратно в Москву. И даже, помнится, расчувствовавшись, выпили и за здоровье виновника нашего импровизированного торжества.
Но такое бывало редко. Все больше — глупости какие-то.
В Европе этот день принято называть Днем дурака. Но можно еще сказать, что это и День обманщиков и врунов. То есть этот день как бы карнавально легитимирует то несомненное и довольно печальное обстоятельство, что общество так или иначе делится на две неравные части — тех, кто вешает лапшу, и тех, кто с готовностью подставляет собственные уши.
День первого апреля как день узаконенного вранья давно уже утратил остатки своей обаятельной эксклюзивности.
Вранье, тотальное и повсеместное, и во все времена было некоей константой общественной и частной жизни. Но к нашим дням оно приобрело статус чуть ли не национальной идеи.
Врали и врут верхи низам, низы верхам. Врут сами себе верхи. И врут друг другу те, кто внизу. Всяческая правдивость во все времена была признаком в лучшем случае простоватости, неумения, выражаясь словами Хармса, поставить себя на твердую ногу. Доверчивый адресат и, можно даже сказать, потребитель вранья был «простофиля». А позже — «фраер». А позже — «лох».
Вранье власти, в отличие от вранья обывателя, всегда носило сакральный характер.
Вообще-то «они» врали всегда. Но структура и фактура вранья как-то менялись со временем. Это и понятно: вранье это как-никак искусство, а искусство требует обновления форм, жанров, приемов, мотиваций, аудитории.
Коммунисты врали настолько тотально, что это уже воспринималось не как вранье, а как какой-то особый инопланетный язык, требовавший перевода. Существовали в те годы специалисты и любители этого дела. Но постепенно люди перестали вслушиваться в эту глоссолалию и стали воспринимать ее как природные или технические шумы за окном: звуки дождя, грохот асфальтового катка, кошачьи свадьбы, песни советских композиторов. Их вранье даже не оскорбляло. Оно было привычным, условным, инерционным, а под конец — и смертельно усталым.
Коммунисты врали так, как взрослые врут детям. И им было насущно необходимо, чтобы им верили. Или хотя бы делали вид, что верят. А когда им не верили и давали это понять, они страшно расстраивались и озабоченно озирались по сторонам в поисках ремня или палки.
Нынешние врут иначе. Они врут на одном языке с нами, а потому их вранье как-то особенно мучительно и унизительно. Оно оскорбительно даже не для общества в целом, а для каждого отдельного человека.
Они, можно даже сказать, врут по-своему честно. Честно в том смысле, что они вовсе и не скрывают того, что они врут. Они врут, нагло и спокойно глядя тебе прямо в глаза. Они врут, прекрасно зная о том, что ты не веришь ни одному их слову, и это обстоятельство их ничуть не смущает.
Они врут так же, как какой-нибудь дворовый шпаненок из нашего детства, который, допустим, выхватывал из твоих рук авторучку или перочинный ножик, быстренько засовывал его к себе в карман и, глядя на тебя весело и нагло, тебе же говорил, что он ничего не брал. Он вертел перед твоими глазами своими пустыми руками и приговаривал: «Где? Покажи! Ты чо! Какой ножичек? Где? В кармане? Так это мой. Серый, иди сюда. Скажи, я брал у него ножичек? Не брал? Правильно. Видишь, и Серый говорит, что не брал. Иди ваще отсюда!»
Эти, нынешние — подросшие те. Они еще и потому столь омерзительны, что столь узнаваемы. Какого-нибудь, допустим, члена политбюро при даже самом богатом воображении никак невозможно было представить своим соседом по коммуналке. А любого из путинской гоп-компании, включая самого — легко.
А еще первоапрельский праздник долгое время был профессиональным праздником весельчаков и юмористов. С одной стороны, живя в нашей стране, нельзя не шутить, так как это лишь одно спасает от бездонного экзистенциального отчаяния. С другой стороны — шутить всегда опасно. И не только в том смысле, что это опасно для жизни и здоровья самого шутника. Это опасно еще и тем, что любая шутка, любая, даже самая гротескная пародия обладают удивительной способностью становиться грубой реальностью.
Наша общественная жизнь за последние сколько-то лет и без того превратилась в один сплошной анекдот, радостная, освобождающая концовка которого не видна даже на горизонте.

Левитаны из ямы. Лев Рубинштейн о телепропаганде
Мне зачем-то запомнилось, как какое-то время назад...
Анекдот — вещь хорошая. Особенно если этот анекдот смешной. Но, во-первых, наш российский скверный анекдот становится все менее и менее забавным. Во-вторых, существовать долго в пространстве нескончаемого анекдота довольно-таки мучительно.
Анекдот, вообще-то, ценен прежде всего тем, что он существует на фоне всеми признанной нормы. Он потому и анекдот, что выявляет в нашей текущей жизни анекдотические черты. Но когда анекдот и жизнь, и, соответственно, вранье и правда становятся неотличимыми друг от друга, дело пахнет — причем все отчетливее — антропологической катастрофой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.